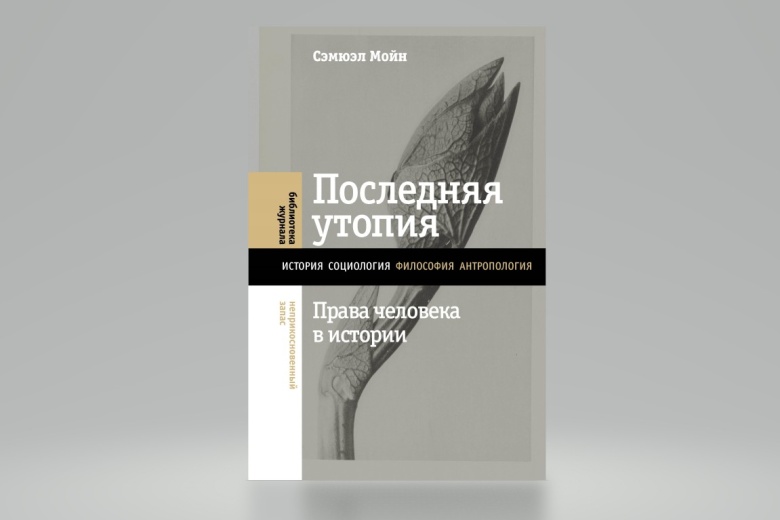
В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга «Последняя утопия. Права человека в истории». В наши дни права человека позволяют говорить о международной справедливости на языке, понятном миллионам. Однако сама концепция, на которой основано правозащитное движение, стала известной всего несколько десятилетий назад, коренным образом изменив наши представления о способах и методах улучшения судьбы человечества.
Книга профессора юриспруденции Йельской школы права и профессора истории Йельского университета (США) Сэмюэла Мойна — это попытка изучить революцию в области прав человека и разобраться в ее причинах и последствиях. Автор показывает, как концепция прав человека после 1968 года стала одновременно прибежищем последней политической утопии и механизмом ее реализации, придя на смену мечтаниям о революционном коммунизме и национализме. Следует ли относиться к этой идее как к наследию, которое необходимо беречь, или права человека — это изобретение, которое нужно изучать и неустанно обновлять?
Унаследованная нынешними юристами-международниками программа не способна объяснить, как все-таки международное право выпестовало нынешнюю ассоциацию с «правами человека». Хотя сегодня эта связь кажется естественной и необходимой, те формы, которые юристы-международники — в XX веке к таковым относились в основном университетские профессора, а также функционеры, делегируемые государствами в международные организации, и сотрудники последних, — рассчитывали внедрить в мировую практику, имели разнообразное содержание. Трудно сказать, сколько времени ушло на то, чтобы их моральный проект вобрал в себя индивидуальные права человека, не говоря уже о том, чтобы он начал приближаться к отождествлению самих целей международного права с их отстаиванием и продвижением. Эта связь не выкристаллизовывалась вплоть до середины 1970-х годов, когда ее вызревание ускорилось благодаря набиравшей силу реинтерпретации общественного идеализма в терминах «прав человека». Американский случай, представленный здесь в международном контексте и охватывающий всю послевоенную эпоху — с непосредственного завершения конфликта через интерлюдию деколонизации до показательной паузы 1970-х, — показывает, что правоведы не столько хранили огонь опекаемого ими очага, сколько следовали за общей модой.
Времена, наступившие после Второй мировой войны, которым всегда приписывался прорыв в области прав человека, на самом деле были периодом, когда этот концепт практически никак не влиял на дисциплину международного права. Действительно, обращение к источникам убедительно доказывает, что большинство специалистов по международному праву за много лет до того, как принятие Всеобщей декларации прав человека подтвердило их опасения, было убеждено в том, что
права человека в послевоенную эпоху будут существовать сугубо на бумаге.