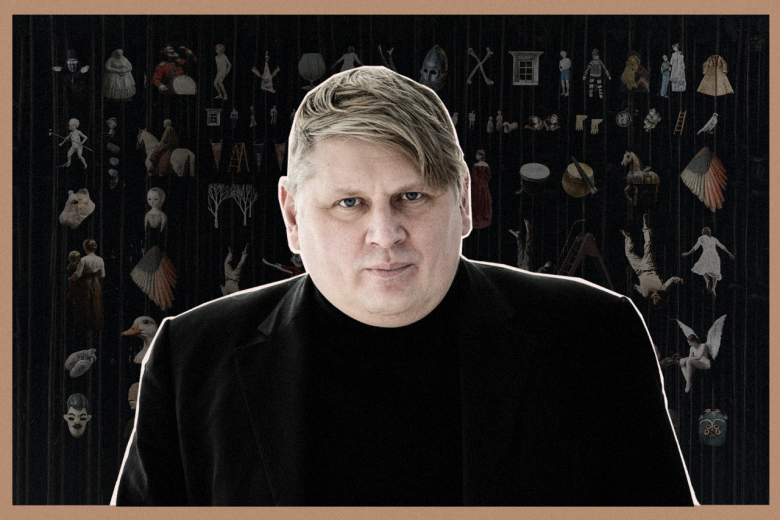
Сергей Невский
К 2025 году разговоры о том, что делать дальше, в первую очередь эмигрантам последней волны, не перестали быть актуальными, хоть окончательно зашли в тупик. Композитор Сергей Невский, перебравшийся в Германию задолго до 2022 года, ни в коем случае не дает советов, а просто пытается найти в прошлом конструктивные примеры жизненной стратегии в изгнании.
Не так давно замечательная писательница и эссеистка Мария Степанова спросила меня в частной беседе: «Как писать книги, если знаешь, что на дворе 1939 год?» Вопрос этот, видимо, стоял и перед героиней последнего романа Степановой «Фокус», альтер эго писательницы, которая внезапно осознает невозможность работать с языком перед лицом преступлений, совершенных его носителями, и пытается выскользнуть из своей биографии, как актер из надоевшего амплуа. Фраза Степановой показалась мне тогда свидетельством недосягаемого благополучия. Дело в том, что последние пять лет не были особенно благосклонны к работникам перформативных искусств: общий эффект пандемии, войны, одновременного сокращения расходов на культуру и наступления искусственного интеллекта сделали переживших все эти катаклизмы артистов решительными людьми. Любая излишняя рефлексия отправляла рефлексирующего в лучшем случае на кушетку психоаналитика, а в худшем — на социальное дно, что, в общем, и произошло с героиней книги Степановой, променявшей выступление на конференции в Дании на ангажемент в странствующем цирке (который ее в итоге не дождался). С другой стороны, эмпатия и рефлексия — часть писательского ремесла, и их нельзя просто отключить ради самосохранения, нужен баланс. Поэтому вопрос, как писать в условном 1939 году, не риторический, он требует ответа. И для того, чтобы не потеряться в мрачных исторических обстоятельствах, можно обратиться к примерам из прошлого.
И действительно, подумал я, чем таким занимался в 1939 году, например, Игорь Федорович Стравинский? Например, писал вместе с Пьером Сувчинским лекции по музыкальной поэтике для Гарварда или сочинял концерт Dumbarton Oaks — подарок к тридцатилетию свадьбы для четы Блиссов, живших в одноименной усадьбе в пригороде Вашингтона. Да и вообще стремился укрепиться в США, как и его товарищи по релокации Барток и Шенберг. Тема странствующего цирка также коснулась биографии Стравинского: в 1941 году он пишет пятиминутную «Цирковую польку — балет для очень молодых слонов». Премьера этой вещи в хореографии Джорджа Баланчина состоялась на арене знаменитого нью-йоркского The Ringling Brothers & Barnum & Bailey Circus. В отличие от героини романа «Фокус», работа в цирке не была для Стравинского способом бегства и растворения в анонимности, смывающей чувство коллективной вины, напротив, это был нетривиальный карьерный ход, который, как и работа с Уолтом Диснеем год спустя, да и вообще как вся жизнь Стравинского, был попыткой создания некоего острова стабильности на фоне непрестанно разваливающегося мира, чью дисфункциональность он всю жизнь воспроизводил в разорванном синтаксисе своей музыки.
Несколько месяцев спустя после разговора с Марией Степановой я вдруг понял, что сама уверенность, что мы живем в обновленной версии 1939 года, также грешит некоторой самонадеянностью. Те, кто точно знают, что живут в 1939 году, конечно, недовольны текущей ситуацией, но они хотя бы знают, что после 1939 и 1940 года, скорее всего, наступит 1943 год, а если повезет, то даже 1945. Мы же на самом деле не уверены даже в том, течет ли время в привычном направлении — от мрачного средневековья к прогрессу или, наоборот, сегодняшний обыватель находится в ситуации агента Купера в предпоследнем кадре третьего сезона «Твин Пикс», вопрошающего в пустоту на обочине: «What year is this?»
Вероятно, скажет нам мудрец, выжить в ситуации нелинейного хаоса нам помогут наши убеждения, некий этический конструкт, независимый от капризов политической конъюнктуры. За последние три месяца я не встречал более грустных людей, чем те, кто пожертвовал комфортом ради убеждений. Десятки, если не сотни, моих друзей и знакомых отказались в начале войны от достаточно комфортной жизни внутри привычного и комфортного пузыря, в котором они могли заниматься независимыми проектами или искусством, не обращая внимания на безумие государства вокруг, и внезапно оказались выброшены в совершенно незнакомый контекст. В целом их судьба сложилась куда более благополучно, чем у действительно рисковавших собой политических активистов, осевших в лучшем случае в шелтерах в Тбилиси, а в худшем — в российских тюрьмах, но потерянность и дезориентированность, причем не столько бытовая, сколько метафизическая, мировоззренческая, бросалась в глаза и вызывала у стороннего наблюдателя искреннее сочувствие. Действительно, сложно представить себе всю гамму чувств у образованных московских друзей, потерявших квартиры, любимую работу, круг друзей, получивших взамен уголовные дела за фейки или неисполнение статуса иноагента, когда приняв присягу, Трамп вдруг начал звонить Путину и называть последнего хорошим парнем.
Большинство моих московских друзей, чье детство прошло под анимированным Star-spangled banner на заставке канала ТВ-6, воспринимали Америку как некий сияющий идеал, а берлинский вид на жительство — лишь как досадную заминку по пути к заслуженной почетной профессуре среди кактусов где-нибудь на кампусе в Сан Диего. Настоящая реальность всегда была где-то там, на Западе, а внепланово возникший за окном Берлин переживался как досадное недоразумение. Как и Набокову сто лет назад, пробегающие мимо аборигены (да и кто их видел?) казались моим друзьям прозрачными тенями, в лучшем случае — поводом пожаловаться на заскорузлость берлинского сервиса, действительно местами удручающего.
Вообще, первые два года войны свист снарядов и грохот разрывов в русскоязычных соцсетях регулярно перебивался рубрикой «жалобная книга» — ожесточенными спорами между старыми и новыми эмигрантами о местном сервисе. «Да у вас в Москве сервис строится на рабстве!» — кричали старые эмигранты новым, как будто никогда не видели на улицах Берлина беженцев из Бангладеш, работающих курьерами доставки или продающих цветы дюжинами. Изначально я, скорее, сочувствовал новыми эмигрантам, которых я, в общем, знал еще не эмигрантами, а активными строителями культурной жизни в непростой гибридной России нулевых-десятых. Новые эмигранты — жители Бульварного кольца, нередко сделавшие европейскую карьеру еще на родине, виделись мне умными, профессиональными и самодостаточными людьми, куда более, так казалось мне, готовыми к интеграции в европейскую жизнь, чем ограниченный во всех смыслах контингент их предшественников, переехавший сюда в девяностые или в начале нулевых в поисках лучшей жизни.
Постепенно, однако, разговоры о сервисе сменились дискуссиями о моделях политического устройства, и тут мне открылись бездны, о которых я в благостной довоенной жизни не подозревал. Я понял, что разница мировоззрений определяется не тем, кто, когда и откуда приехал, а тем, имел ли имярек доступ к минимальным демократическим процедурам или же считал их, как большинство людей, отравленных постсоветской реальностью, некой условной игрой, декорацией, за которой лишь просматриваются истинные механизмы большой политики.
Я понял, что бесконечные разговоры об абстрактных материях, отравлявшие мне радость общения с друзьями в эмигрантских компаниях, удручали меня не столько из-за разницы во взглядах с новоприбывшими (со староприбывшими я уже успел разругаться в предыдущую каденцию, и их взгляды для меня значения не имели), а из-за совершенной оторванности этих бесед от той реальности, в котором мы все находились. В узком кругу, где люди были заняты прежде все устройством распавшейся жизни, хождением по неподатливым берлинским учреждениям и поиском квартир и работы, главной темой разговора был, условно говоря, не берлинский сенатор по культуре, оторвавший у нее, то есть у меня и моих собеседников, 180 миллионов евро только в этом году, а возвышенные темы: кто прав — правые или левые, что происходит на (по-прежнему недоступных) американских кампусах, что написала об этом Маша Гессен в журнале New Yorker и что ей возразили в России или в Америке (от нашей актуальной геопозиции равно удаленных), кто среди деятелей искусства поддерживает Израиль, а кто нет, и правда ли, что Зеленский — голова, а Трампу палец в рот не клади.
В какой-то момент я понял: четверть века усилий российской власти по вытравливанию из общества веры в возможность хоть на что-то повлиять дали свой результат и привели, среди прочего, к тому, что любые убеждения людей, прошедших сложный опыт жизни в России, стали чем-то параллельным реальности. Скорее, они казались чем-то вроде привезенной из России шкатулки с фамильными драгоценностями — в их гранях прекрасно играет отраженный свет, но в булочную или в бюро по делам иностранцев в них не сходишь.
За три года я смог наблюдать самые причудливые формы взаимодействия стройных убеждений и реальности, иногда комичные, иногда пугающие. Я видел либертарианцев на пособии, продолжающих, не покидая пособия, клеймить изъяны социального государства, я видел мягкотелых советских интеллигентов с Окуджавой и Ахматовой в анамнезе, призывающих к истреблению по национальному и религиозному признаку. Наконец, на одной из милых экспатских вечеринок (на которые после этого текста меня, вероятно, больше не позовут) один из спикеров, в прошлом известный журналист, высказался, как ему надоели в Берлине «леваки и социалисты» и как уже хочется уехать на какой-нибудь настоящий Запад.
Перед моим мысленным взором опять встал угрюмый март 2022 года, толпы украинских беженцев на главном вокзале и долгие, поначалу абсолютные бесплодные попытки людей самых разных политических взглядов, иногда очень далеких от социализма, убедить министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (СДПГ) дать гуманитарные и облегчить получение фрилансерских виз для россиян, прежде всего для журналистов, художников и интеллектуалов, бежавших от режима. На эти просьбы немецкая политика реагировала поначалу очень туго, боясь быть обвиненной (правильно!) в излишней левизне и социализме, которые здесь начиная с Вилли Брандта и его Ostpolitik ассоциируются с дружелюбием по отношению к России. Понимание того, что многие из нас оказались в Германии не в силу какого-то сбоя матрицы, отправившей нас сюда вместо «настоящего» Запада, а потому, что спасение немцами российских интеллектуалов стало важной частью проработки ими их собственной истории и результатом извлеченных из прошлого уроков, пришло в голову, увы, немногим.
В том же марте 2022 года мне посчастливилось побывать на встрече с писателями, организованной немецким Минкультом в помпезной резиденции канцлера Шольца. Там из уст знаменитого прозаика Даниэля Кельмана я услышал буквально следующее: «Когда Лион Фейхтвангер бежал от гитлеровского режима во Францию, французы первым делом интернировали его как немца. Давайте не будем повторять подобных ошибок».
Именно благодаря тому, что на момент начала полномасштабного вторжения в правящей коалиции оказались традиционно пинаемые русскоязычными интеллектуалами «леваки и социалисты», российские художники и журналисты новой волны и смогли безболезненно переехать из Москвы в Берлин, где и продолжили свою публицистическую деятельность, и получили какие-то, хоть и небольшие, гранты и стипендии. Будь немецкое правительство на начало 2022 года хоть немного иным, ситуация бежавших от режима интеллектуалов могла пойти, увы, совершенно по другому сценарию: если не по эстонскому или чешскому, то все равно по куда более жесткому. От которого мы все, впрочем, не застрахованы в будущем, ибо власть в Германии ко всеобщей радости, наконец, сменилась. Что же делать моим прекрасным друзьям, когда они поймут, что один мираж, прошлой жизни в России, рассеялся, а другой — «настоящего Запада», оказался Trompe-l’œil, обманкой, нарисованной на стене воображаемой перспективой?
В 1918 году, на исходе Первой мировой, в поселке Морж на берегу Женевского озера Игорь Стравинский с Шарлем Рамю создают «Историю Солдата» — философскую притчу об изгнании, любви и искушении, своего рода мини-оперу для камерного ансамбля, трех чтецов и танцовщицы. Вещь, как сегодня сказали бы, антрепризную, без декораций, и отсылающую в своей эстетике к представлениям бродячего цирка. Одной из ключевой тем сюжета, взятого Рамю из сборника сказок Афанасьева, является фатальная невозможность возвращения на родину. По сюжету солдат должен научить черта играть на скрипке за три дня, и когда возвращается на родину, узнает, что вместо трех дней прошло три года, что на родине он считается дезертиром и даже родные его не узнают. Над «Историей Солдата», чьей главной задачей было поднять материальное положение авторов, нависли тени уже привычных нам войны и пандемии (тогда испанки), правда, век назад они случились в обратной последовательности.
Так или иначе, опус Стравинского и Рамю, возникший в условиях жесткой военной экономии, внезапно выполнил сразу две исторические задачи: эстетическую — возник состав ансамбля солистов, ставший эталонным для всей музыки XX столетия, и метафизически-коммуникативную. Лишенный трибуны и материальной базы «Русских сезонов» и привычной ему образованной парижской публики, Стравинский умудрился в максимально жесткой, массовой, площадной эстетике сформулировать неформулируемое — опыт невозможности вернуться туда, где нам было хорошо. Эстетика балагана, эстетизированная авторами «Истории», предполагала доступность для самых простых зрителей, и для гастролей по многоязычной Швейцарии либретто было немедленно переведено на немецкий и итальянский. В результате именно преобразование невербализуемого опыта в площадной язык, сочетание рафинированного композиторского мышления и сжатой аскетической инструментовки, плюс вовлечение в партитуру элементов популярных жанров (в «Истории» есть и танго, и рэгтайм) сделали эту вещь универсальным высказыванием об эпохе, созвучным любому европейцу, а не только потерявшим родину русским экспатам.
Поэтому главный урок самосохранения для нас всех, оставленный Стравинским и в чем-то диалектически дополняющий Марию Степанову, можно сформулировать следующим образом: говорите о важном для вас прежде всего с теми, кто вокруг вас, на их языке, а если потребуется, записывайтесь в цирк.
Вы прочитали материал, с которого редакция сняла пейволл. Чтобы читать материалы Republic — оформите подписку.