
Москва
Victor Berezkin/Keystone Press Agency
Конец года — время подведения итогов и попыток спрогнозировать год грядущий. Вот и мы традиционно спросили об этом у экономистов, которые весь этот год рассказывали нам о происходящем. На вопросы Republic отвечают экономисты Андрей Мовчан, Сергей Алексашенко, Олег Буклемишев и Сергей Петров.
Самый важный экономический итог этого года для России?
Андрей Мовчан:
Сложно говорить о «самом важном» в большом экономическом организме, тем более в периоды больших перемен. Пожалуй, важнее всего то, что 2024 год доказал еще раз, что Россия не «уникальная страна» и законы мировой экономики для нее работают так же, как для всех остальных. Важнейшим свидетельством этого является рост инфляции и еще более быстрый рост дефлятора ВВП как следствие вброса в экономику больших денег, не обеспеченных появлением стерилизующих их произведенных товаров и услуг. Формально хорошо себя чувствующая (и даже растущая) экономика РФ держится на огромных поступлениях от экспорта полезных ископаемых, резком (спасибо Западу) сокращении оттока капитала и показывает (временный) рост доходов населения за счет массивных выплат военным и ВПК. В то же время эти выплаты, обеспечивающие создание непотребительских товаров и услуг, ложатся инфляционным грузом на рынок. И вот уже ЦБ вынужден держать ставку рефинансирования на уровне запретительном для заимствований практически всеми индустриями (кроме тех же ресурсных и ВПК, который финансируется льготно). В сочетании с дефицитом рабочей силы (около 1 млн работоспособных человек эмигрировали, около 1,5 млн выпали в связи с мобилизацией/контрактом и еще около 2 млн человек оказались задействованы в обеспечении военной кампании и развития ВПК) и естественным ростом зарплат из-за дефицита эти обстоятельства душат «гражданскую экономику» и создают предпосылки для ее сокращения (в принципе, ее сокращение уже идет и будет идти дальше), то есть если не учитывать чисто военный сектор экономики России, то уже можно говорить о легкой стагфляции.
Сергей Алексашенко:
Пушки окончательно победили масло: Путин готов сокращать любые расходы для наращивания расходов на войну.
Олег Буклемишев:
Самый главный итог для России — выяснилось, что есть предел той экономической модели, в которой мы живем. Эта модель сейчас в кризисе, который выражается в инфляционном аспекте. Раньше казалось, что все проходим нормально и тут впервые такой серьезный сбой — инфляция, с которой никак не удается справиться. Это симптом, что модель начинает давать серьезные сбои.
Сергей Петров:
Для России — разгон инфляции. Начиная с конца весны этого года — это, наверное, доминирующий макроэкономический фактор, который тянет за собой множество решений наших регуляторов. Причем картинка выглядит достаточно драматично, потому что, даже несмотря на достаточно высокую ключевую ставку ЦБ, добиться, чтобы инфляция начала устойчиво снижаться хотя бы умеренными темпами, не удается. Если во время взлета инфляции в начале 2022 года, который, кстати, был сильнее, буквально через три месяца после того, как ЦБ поднял ставку, инфляция пошла вниз, то сейчас, несмотря на ставку даже более высокую, добиться устойчивого снижения, хотя бы умеренного, не удалось.
Самый важный экономический итог этого года для мира?
Андрей Мовчан:
В 2024 году развитый мир справился с высокой инфляцией и готов теперь решать вопрос «что дальше». Ответы на этот вопрос даются пока не очень внятные, а между тем ответы крайне нужны — экономика всех развитых стран накопила за последние 15 лет множество побочных эффектов «лечения» кризиса 2008 года и спасения от ковида, и текущие политики требуют масштабного пересмотра. При этом именно в 2024 году определились разные подходы к такому процессу. В США граждане проголосовали за пересмотр «вправо»: сокращение расходов бюджета и налогов, ослабление регулирования, восстановление коммерческого смысла в международных отношениях. Мы не знаем, что в итоге получится у избранного республиканского большинства, но запрос на эти перемены сформулирован крайне четко.
В Британии, напротив, недовольные «левизной правых», невнятной политикой консерваторов, избиратели отдали левым (лейбористам) достаточно голосов, чтобы на фоне раскола правых на две значимые партии (тори и реформ) лейбористы получили право сформировать правительство. Разумеется, их решением было увеличить налоги и регулирование, создать больше бюрократических институтов, ограничить предпринимательство и изгнать из страны крупных инвесторов и состоятельных людей. Несмотря на массовое недовольство их политикой и собираемые за досрочные перевыборы голоса, ближайшее время в Британии пройдет под знаком левой политики.
Во Франции попытка свалить центристов привела также к «полевению» власти. В Германии же левая коалиция развалилась и страну ждут новые выборы в начале 2025 года.

Андрей Мовчан
Фото предоставлено Андреем Мовчаном
Ровно обратная ситуация сложилась в 2024 году в мире развивающихся экономик, львиную долю ВВП которого производит Китай. Китай в этом году боролся с дефляцией и проиграл: потребление падает, страна на фоне сокращения спроса со стороны развитых экономик медленно, но верно входит в кризис и никакие меры по стимулированию спроса не срабатывают. Это еще одно доказательство того, что никто не может «обманывать» экономические законы вечно, конец наступает рано или поздно. Квази- (а я бы сказал «не-») рыночная экономика Китая, избыточная регуляция и огромная роль государства в экономике, рестриктивные законы и одновременно социалистическое планирование сделали экономику неэффективной, экономических агентов пассивными, не дали возможности сформироваться растущему внутреннему спросу и ведут страну к стагнации и, видимо, к «японскому сценарию», но на существенно более низком уровне ВВП на человека. Пока это не мешает Китаю наращивать технологическую базу и резервы. На вопрос, как долго страна будет двигаться по инерции, у нас нет ответа.
Сергей Алексашенко:
Очевидный переизбыток возможностей добычи нефти в мире, рост которых при нынешних ценах сильно опережает рост спроса на «черное золото».
Олег Буклемишев:
Для мира итогов два. Первый — что мир, Америка прежде всего, «поедет» вправо. А второй — что Китай перестает быть надежной основой для глобального роста.
Сергей Петров:
В мире все было заметно спокойнее. Если говорить о США и ЕС — инфляция постепенно снижалась под действием ужесточенной ДКП. Хотя она все еще выше целевого уровня, но добиться перелома тренда удалось. В Китае главная проблема — это то, что там начинаются процессы, схожие с теми, которые шли и в российской экономике в начале 2012–2013 годов, и в Японии конца 1980-х — начала 1990-х: кризис экспортной модели. И российская, и японская, и китайская экономики в основе своего экономического роста имели экспорт. С той разницей, что Россия экспортировала сырьевые продукты первичного передела, а Япония и Китай — готовую продукцию, то есть фактически экспортировали труд. Причем интересно, что на пике экономического роста, что в Японии, что в Китае, все эксперты считали, что они превзойдут США. В Японии это уже не случилось, в Китае с большой вероятностью не случится: он уперся в экспортные ограничения.
Какой сценарий вам кажется наиболее вероятным в следующем году для экономики России?
Андрей Мовчан:
Для России 2025 год в экономическом смысле будет сильно зависеть от того, как будет идти война. И вопрос не только в том, остановится ли она в 2025 году, вопрос и в том, как это отразится на санкциях, как изменится аппетит Кремля к наращиванию вооружений, как отразятся на расходах государства потребности растущих вооруженных сил и проч. В наиболее вероятном сценарии мы увидим закрепление существующей тенденции на умеренный рост ВВП за счет военных расходов и государственных проектов, с сокращением «мирного» ВВП, значительную, но не опасную для стабильности инфляцию и уравновешивающую ее запретительную ставку рефинансирования, медленное нарастание неэффективности в логистике и сокращение ассортимента производимых товаров с замещением импортом из развивающихся стран.
Поскольку ожидания серьезного долгосрочного падения цен на нефть нет, как нет и ожидания снятия санкций, удерживающих капитал внутри страны, не стоит ждать фундаментальных проблем в российской экономике в 2025 году — ни кризиса, ни коллапса не должно случиться. «Праздник потребления», особенно в столице, продолжится на фоне потери покупательной способности всеми, кто не связан с госконтрактами и работой на военную индустрию. Стоимость рубля к основным валютам продолжит тренд на снижение, но как обычно на этом пути будут и короткие обратные движения, связанные с действиями ЦБ или ростом стоимости углеводородов.
Сергей Алексашенко:
Дальнейшее снижение темпов роста и продолжающийся рост инфляции, которая является реакцией экономики на возникающие дисбалансы.
Олег Буклемишев:
И в России, и в мире будет немного хуже. В первую очередь, в плане экономического роста.
Какой сценарий вам кажется наиболее вероятным в следующем году для мировой экономики?
Андрей Мовчан:
В целом мир экономически очень устойчив — 2025 год будет годом низкого роста мирового ВВП, но рост будет, глобальный кризис не ожидается. Думаю, инфляция в развитых странах будет под контролем, но несколько выше, чем ожидается. Проблемы «левых экономик» и Китая будут усугубляться, реформы в США, возможно, уже успеют дать первые результаты, возможно, еще нет. Мы ждем относительно хороших новостей из Аргентины, где правые реформы идут полным ходом, и относительно плохих из Турции, которая последнее время сочетает спорные экономические эксперименты с большими и дорогими глобальными амбициями, и Ирана, который очень много потерял в политическом плане в 2024 году, и это не может не отразиться на экономической ситуации.
Сергей Алексашенко:
Уверенный рост в Америке, замедление роста в Китае, стагнация в крупнейших европейских странах, высокая вероятность ценовой войны на рынке нефти.
Какие опасности, на ваш взгляд, существуют в следующем году для российской экономики?
Андрей Мовчан:
Для российской экономики существует лишь одна краткосрочная опасность — это существенное падение мировых цен на нефть. В нынешней своей инкарнации российская экономика слишком проста, чтобы зависеть от множества факторов, и если цены на нефть будут стабильными (и даже если они будут падать, но краткосрочно), она будет идти дальше путем медленного упрощения, рецессии потребительской экономики, неэффективного и не быстрого, но роста и развития финансируемого государством военно-промышленного комплекса и переориентации на Китай как квазимонопольного партнера.
Сергей Алексашенко:
Инфляция выходит за пределы 15% в год.
Олег Буклемишев:
Для российской экономики это наличие узких мест. Когда вроде бы все будет идти нормально, и вдруг мы будем натыкаться на такое «бутылочное горлышко», и ситуация перестанет описываться инерционным сценарием.

Олег Буклемишев
Фото: P B / Youtube.com
Сергей Петров:
Главная опасность для российской экономики — это риск, что ЦБ ослабит свои усилия в борьбе с инфляцией и это приведет к «турецкому» сценарию. Для России особый драматизм такого сценария заключается в том, что хотя мы в таких условиях уже жили в 1990-х, но тогда, как и сейчас в Турции, значительная часть экономики «долларизировалась». А сейчас в России из-за санкций использовать иностранную валюту можно, но есть множество ограничений.
Какие опасности, на ваш взгляд, существуют в следующем году для мировой экономики?
Андрей Мовчан:
Я не вижу будущий год как год кризиса, скорее, можно говорить о локальных опасностях и проблемах.
Существенные вопросы стоят перед европейскими экономиками, особенно теми, которые, как Германия, не смогли справиться с ростом цен на энергоносители. «Социалистичность», зарегулированность, бездумные акции типа запрета на атомные электростанции, депрессивно влияющее на инвестиции и бизнесы налогообложение буквально душат эти экономики, не давая им развиваться, а пределы возможности удовлетворения требований избирателей на обеспечение им неадекватно оплачиваемых товаров и услуг за счет роста долга и налогообложения бизнеса уже близко. В 2025 году глубокая рецессия или кризис занятости еще не являются главной опасностью для европейских экономик (до этого далеко, накоплен большой запас), но, например, существенные коррекции европейских рынков, рост доходности долгов мы можем увидеть. И это будет вести к сокращению инвестиционных потоков, усилению тенденций вывода бизнесов за пределы ЕС и, в конечном итоге, готовить значительный кризис.
Для США год является годом реальных выборов — либо сдвигать экономическую политику серьезно вправо, либо делать вид (как это бывало раньше), предпочтя сиюминутное удовлетворение избирателей стратегическому развитию. Риск популистского выбора велик, несмотря на тотальную победу республиканцев. Внутри команды самого Трампа и тем более в Сенате и Конгрессе есть разные мнения, группы интересов и влияний, и далеко не все те, кто получит возможность влияния на американскую экономику, готовы к действиям. Хуже того, мы знаем, что часть из них готовы к действиям «правым» по форме, но крайне нерациональным по содержанию, вроде введения высоких импортных тарифов или полномасштабной торговой войны с Китаем. «Радикальные» меры могут существенно негативно повлиять как на мировые рынки, усилив их фрагментацию и увеличив себестоимость товаров, так и на рынок США, куда вернется высокая инфляция.
Для многих относительно более слабых и зависимых экономик ключевым вопросом года будет доступность инвестиционного капитала. Сейчас, несмотря на высокие ставки рефинансирования, в развитых странах стоимость долговых обязательств сравнительно высока, а доходность низка из-за того, что премии за риск находятся на предельно малых уровнях. Происходит это в основном за счет все еще большого объема денег в экономиках, но этот фактор уходит. С другой стороны, на рынки долга будет давить американский рынок акций. После рекордного роста в 2024 году инвестиции в него должны пойти еще сильнее, возможно, за счет рынков долга в целом и, скорее всего, за счет рынков рискованного долга. Если мы увидим серьезный рост премии за риск при, как мы ожидаем, небольшом снижении ставок, стоимость капитала для экономик с низкими рейтингами вырастет, что может привести к ухудшению их кредитоспособности и даже кризисам — локально или глобально — на долговых рынках.
Для Китая главным вопросом остается комбинация из стагнирующего внешнего и внутреннего спроса и высокой неэффективности спроса государственного. Меры по стимулированию экономики в 2024 году дали лишь маржинальный эффект, и возможно в 2025 году Китаю придется пойти на болезненные меры (в частности, на сворачивание государственных инфраструктурных проектов, стерилизацию долговых обязательств и проч.), чтобы в перспективе оздоровить экономику, скатывающуюся то ли к сценарию японской рецессии, то ли в прошлое по типу СССР 1960–1970-х годов. Такое оздоровление будет стоить на коротком горизонте резкого сокращения роста или даже приведет к рецессии. Всвою очередь такое развитие событий может снизить прогноз потребления Китаем энергии и привести к падению цен на нефтяном и газовом рынках (тут уместно вспомнить обещания Трампа залить мир нефтью и уронить ее цену — эти обещания трудновыполнимы сами по себе, но в контексте сокращения потребления Китаем рост добычи в США будет дополнительным фактором падения цен). Падение цен на нефть, пусть не долгосрочное, повлияет на множество разных рынков — ослабит российскую и иранскую экономики, подорвет и так перегретые рынки недвижимости в странах Залива, создаст новые обстоятельства для стран Западной Африки и так далее.
Сергей Алексашенко:
Обострение политических отношений США и Китая, которое приведет к разрыву многих экономических цепочек.
Олег Буклемишев:
Действия новой американской администрации. Пока никто не понимает, чего она хочет, и есть ощущение, что она сама этого еще не понимает. И эта угроза, мне кажется, довольно существенная.
Сергей Петров:
Для мировой экономики опасностей две и они в значительной мере взаимосвязаны. В Китае главная опасность — общее торможение экономики и мина замедленного действия в виде гипертрофированного и проблемного рынка недвижимости. Причем замедление темпов роста началось с 2011 года. В результате Китай приближается к «великому китайскому застою».
А вот в США и ЕС проблемы совершенно другие. Во-первых, инфляция хоть и снижается, но все еще выше таргета, и есть довольно большая опасность, что под давлением политиков и ФРС, и ЕЦБ будут излишне энергично смягчать ДКП. Это, кстати, вообще глобальная проблема последних десятилетий: после того, как Пол Волкер (глава ФРС в 1980-х) своим экстраординарным ужесточением ДКП добился тренда на снижение инфляции на десятилетия, многие развитые страны значительно нарастили госдолг. Пока процентные ставки были низкими, его обслуживание не представляло проблем, но вот сейчас, когда ставки высокие, стоимость обслуживания госдолга США, например, еще немного и достигнет исторических максимумов, которые были при Рейгане: тогда это 4,2% ВВП, сейчас уже выше 3,6% и имеет тенденцию к росту. Потому что госдолг США равными долями распределен между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными обязательствами, и по мере того, как прежние краткосрочные обязательства погашаются, занимать приходится по новым ценам, которые заметно выше «ключа». Соответственно, ФРС и ЕЦБ находятся меж двух огней: с одной стороны, нужно сохранять довольно высокую ставку для борьбы с инфляцией, с другой — высокая процентная ставка делает обслуживание госдолга довольно неприятным. Естественно, что большинство политиков заинтересовано в удешевлении кредитования. Потому регуляторы в цугцванге: дальнейшее снижение инфляции может иметь ценой экономический рост.
Есть ли некие факторы (позитивные или негативные), которые, на ваш взгляд, недостаточно учитываются в экономических прогнозах для мировой и/или российской экономики?
Андрей Мовчан:
Экономических прогнозов делается очень много и, как правило, их диапазон широк, поэтому для любого фактора, скорее всего, найдется хотя бы один учитывающий его прогноз. Если же говорить о «мейнстриме», то есть прогнозах крупных и уважаемых (не за прогнозы разумеется) аналитических служб, то, пожалуй, единственный фактор, на мой взгляд, недостаточно учитываемый сегодня — это возможность возврата роста инфляции и, соответственно, существенно меньшее снижение ставок.
Помимо этого надо понимать, что любые прогнозы могут учитывать только, так сказать, «медленные» факторы — те факторы, которые уже есть и развитие которых занимает существенное время. И, разумеется, рассматриваются «стабильные» сценарии — прогнозировать «экономические резонансы» сегодня никто не научился. Ни один прогноз никогда не учтет возможность глобальной эпидемии или стихийного бедствия, начала военного конфликта, к которому не было существенных предпосылок, неожиданной победы на выборах новых сил. Невозможно прогнозировать редкие но очень существенные выбросы на рынках, где позитивная обратная связь может поддержать небольшое движение и превратить его в хайп или катастрофу. Вообще прогностические возможности для сверхсложных систем, в том числе для мировой экономики, очень ограничены.
Сергей Алексашенко:
Для российской экономики: после завершения горячей фазы войны встанет выбор между плохим и очень плохим сценарием. Сокращение военных расходов приведет к падению экономики и появлению нескольких сотен тысяч обиженных и озлобленных бывших солдат, которые привыкли решать все вопросы насилием и которые столкнутся с резким падением уровня жизни и своего социального статуса. Поддержание военных расходов на близком к текущему уровне позволит решить указанные выше проблемы, но будет еще больше перекашивать экономику, разгоняя инфляцию. Какой из этих сценариев плохой, а какой очень плохой — решайте сами.
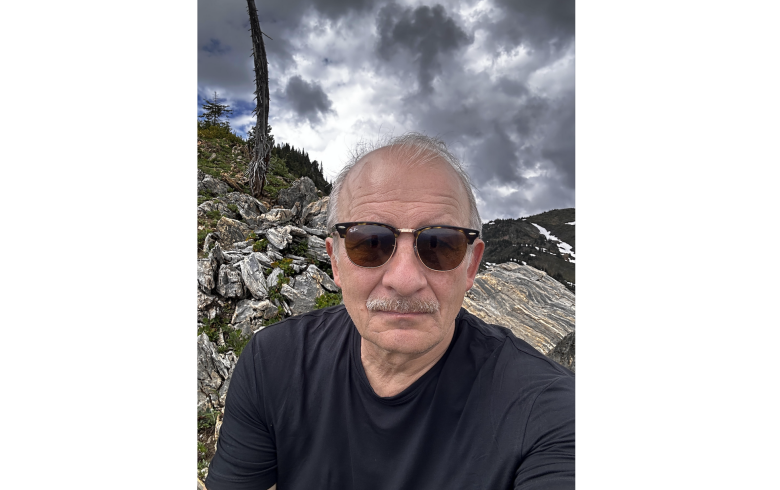
Сергей Алексашенко
Фото предоставлено Сергеем Алексашенко
Олег Буклемишев:
Главный фактор для России в том, что приходится выбирать. Причем не между хорошим и очень хорошим, а из двух зол. Например: высокая инфляция или бюджетный дефицит, между монетарным ужесточением и отказом от расширения бюджетного финансирования. То есть приходит время, когда надо делать политический выбор, а этот выбор в данной ситуации может оказаться неправильным, неточным и несвоевременным.
Для мира: угроза недоучитываемой сейчас возможности рецессии с падением цен на нефть и прочими неприятностями.
Сергей Петров:
Для России: возможный развал сделки ОПЕК+. Пока сделка работает хорошо, но история показывает, что в долгосрочной перспективе картели обычно распадаются. Вопрос: когда это случится. Сделка ОПЕК (тогда еще без плюса) уже разваливалась в 1980-х — тогда нефть упала в четыре раза и СССР этого не пережил. Нельзя сбрасывать со счетов и санкционные риски. Причем главный фактор неожиданности — это Трамп. С его стороны возможны любые решения, которые могут изменить существующий статус-кво.
Для мира: наверное, тоже Трамп, но в другом контексте. Возможен виток деглобализации, если он начнет повышать торговые барьеры между странами. Тенденция уже просматривается: Китай проводит достаточно последовательную политику по вытеснению западных компаний — что, кстати, довольно болезненно ощущается в Европе, особенно в Германии. И речь не только об электромобилях. Китай освоил достаточно большой набор производственного оборудования и не только насыщает собственный рынок, но и агрессивно продвигает на рынках внешних.
В США самая большая интрига — насколько Трамп повысит таможенные тарифы для других стран и какая будет ответная реакция. В его первый президентский срок, когда он поднял тарифы для Китая до 15%, обошлись без торговой войны. Но вот во времена Великой депрессии, например, таможенные тарифы достигали 100%. А торговая война — это и разгон инфляции, и замедление экономического роста и увеличение издержек.
Мир с 1990-х годов устойчиво глобализировался, многие производственные цепочки «завязаны» на международное сотрудничество. Если начнутся торговые войны, это может привести к очень серьезным последствиям для всего мира. Да, у США сильно отрицательный торговый баланс. Но можно было бы договорится с тем же Китаем. Вопрос только, будет ли товарищ Си договариваться или предпочтет вытащить шашку и пойти в ответную атаку.