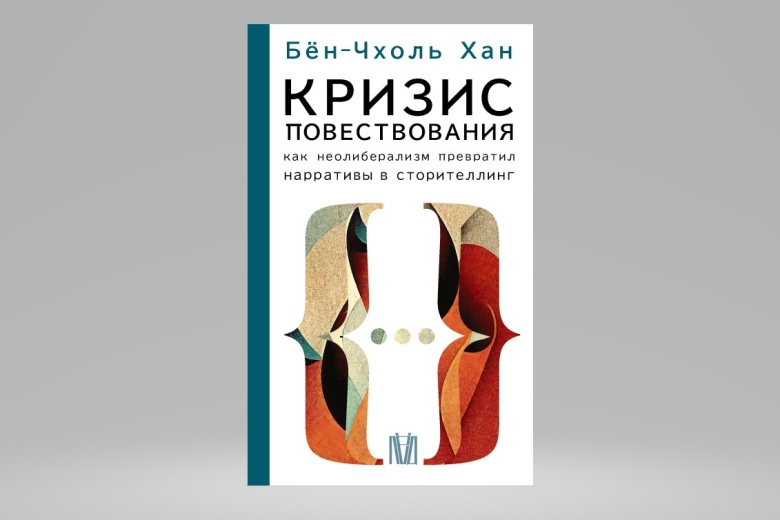
В импринте «ЛЕД» издательства «АСТ» вышла книга «Кризис повествования. Как неолиберализм превратил нарративы в сторителлинг».
В своих философских эссе Бён-Чхоль Хан анализирует современного человека, окруженного бесконечными нарративами, повествованиями и историями. Однако, несмотря на эту бурю смыслов вокруг, мы, кажется, утратили возможность чувствовать и понимать истинное повествование — и оказались в «постнарративном мире».
Цифровое общество полностью подчинено информации, и с каждым днем ускоряется процесс «денарративизации». Поток информации, который, по сути, является бушующим океаном данных, «удушает дух» истории. Несмотря на то что мы все быстрее обмениваемся информацией и производим ее, онлайн и офлайн, «мы больше не рассказываем друг другу истории. Мы публикуем, делимся и ставим лайки».
В своем эссе «Конец теории» Крис Андерсон, главный редактор Wired, утверждает, что непредставимо большие данные делают теории совершенно излишними: «Сегодня компаниям вроде Google, выросшим в эпоху огромного изобилия данных, не нужно прибегать к неправильным моделям. В действительности им больше не нужно прибегать к моделям вообще». Основанная на данных психология или социология якобы позволяет точно предсказывать человеческое поведение и управлять им. На смену теориям приходит прямое сопоставление данных:
«С любой теорией человеческого поведения, от лингвистики до социологии, покончено. Забудьте таксономию, онтологию и психологию. Ну кто может сказать, почему люди делают то, что они делают? Они просто это делают, а мы можем отследить это и измерить с беспрецедентной точностью. Если у вас достаточно данных, числа говорят сами за себя».
Большие данные, собственно, ничего не объясняют. Из больших данных следуют только корреляции между вещами. Корреляции — это самая примитивная форма знания. Они ничего не дают понять. Большие данные не могут объяснить, почему вещи так относятся друг к другу. Не устанавливаются ни каузальные, ни понятийные взаимосвязи. Почему-это-так сменяется беспонятийным это-вот-так.