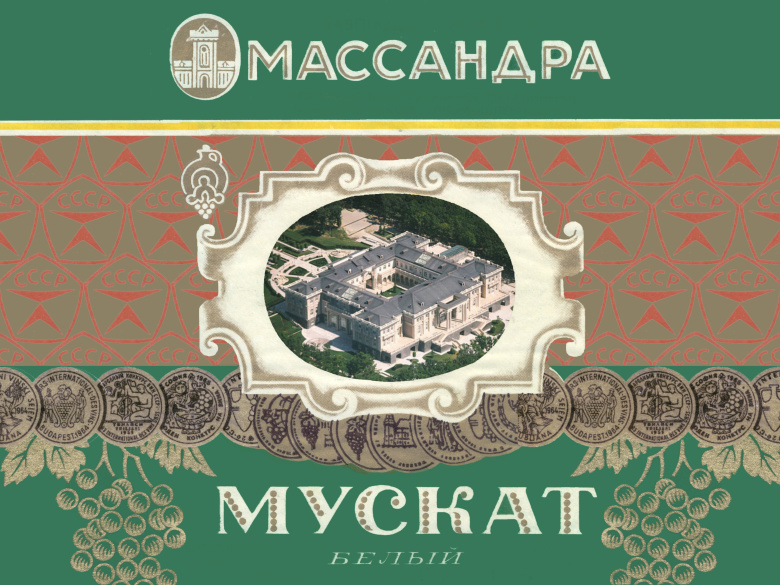
Коллаж из советских винных этикеток (коллекция Алексея Базилевича)
Мария Покровская для Republic
Когда Владимир Путин в видеоконференции со студентами отвечал на вопрос о знаменитом заплесневелом дворце под Геленджиком, он отрицал все факты, который приводятся в расследовании команды Алексея Навального, кроме одного — своего интереса к вину. «Вот очень хороший бизнес, благородный, — пустился в многословные рассуждения президент Российской Федерации. — Кстати говоря, уже от темы отойду, у нас вообще виноделие развивается неплохо, тоже вид деятельности хороший. Мы закон приняли очень хороший недавно по этому поводу. В этой связи — не как бизнесом, а как видом деятельности — я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался».
Как-то незаметно этот вид деятельности стал для высшего звена российской элиты чем-то вроде тенниса при Ельцине или дзюдо с хоккеем на предыдущих путинских сроках. И даже больше того. Пока председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин дарит корзинки с колбасой и вином «Дивноморское» своим друзьям и оппонентам, а близкий друг экс-президента России Дмитрия Медведева оказывается владельцем виноградников в Тоскане, компании всемогущего Юрия Ковальчука методично скупают все флагманские винодельни Крыма и берут под контроль легендарное «Абрау-Дюрсо». Откуда такая страсть у советских людей, выросших в ленинградских коммуналках и панельках? В рамках нового проекта «Денег», посвященного 30-летию распада СССР, мы поговорили об этом с Денисом Пузыревым — обозревателем российского алкогольного рынка и ведущим телеграм-канала «Пьяный мастер».
Об иллюстрациях к тексту хочется сказать особо. Это коллаж и фотогалереи, сделанные Марией Покровской на основе реально существующей коллекции советских винных этикеток 1970х — 2000-х годов. Коллекцию я случайно нашла и купила на интернет-барахолке, а собрал её простой советский человек Алексей Александрович Базилевич, который — совсем как французские или итальянские ценители вина! — годами методично записывал впечатления от бутылок, распитых с родственниками и друзьями. Вот только, в отличие от французов с итальянцами, в его распоряжении были «Советское шампанское», тихие грузинские вина да крымские портвейны. За этим свидетельством эпохи мне видится драма, которая, возможно, движет нынешними собирателями крымских, краснодарских и тосканских виноградников.
— Можно ли оценить, сколько денег в «хороший, благородный бизнес виноделие» вложено в России за последние годы?
— В принципе, математически можно отследить инвестиции в высадку новых гектаров винограда. С виноделием сложнее, потому что можно построить простенькую технологичную винодельню, которая будет стоить недорого, а можно все обнести мрамором, аквадискотеками и комнатами для грязи. Фантазия безгранична, поэтому и ценник, соответственно — от нуля до бесконечности. Плюс к тому, отличаются форматы работы придворных виноделов, как их один раз назвал Forbes. Допустим, Андрей Костин развивает большое хозяйство [Alma Valley], и это настоящий бизнес с большими объемами производства. Когда у тебя большие объемы, ты можешь делать супервина и хвастаться ими перед Игорем Ивановичем Сечиным и Владимиром Владимировичем Путиным, но основной смысл твоей работы — это продажа более дешевых вин, возврат инвестиций и т.д.
Многие хозяйства в России — бутиковые, по 15–20 гектаров. По европейским меркам это даже большие участки: в Бургундии, если у тебя есть 20 гектаров, на тебя будут смотреть как на маркиза Карабаса, которому принадлежит всё в округе. Но в России другие представления о масштабах.
— А если попытаться временные границы тренда очертить — это благородное увлечение у российской элиты началось после присоединения Крыма или еще до того?
— Началось до того, а после Крыма стало уже каким-то необратимым. Понятно, что люди, которые считаются российской элитой, берут за ролевую модель то, что видели в Европе — аристократов, которые живут на вилле и у них там виноградники. При этом есть не очень успешные аристократы, которые зарабатывают тем, что на свою виллу пускают туристов и открывают там закусочную, где графиня лепит что-то из национальной кухни. И вот нашим больше всего нравится это сочетание: с одной стороны, аристократизм, с другой — работающая бизнес-модель. В общем, виноградники — это очень распространенный атрибут красивой жизни для российской элиты.
Как-то я писал колонку для журнала Simple Wine News, и они меня спрашивали: а почему все ломанулись в виноделие? У меня была такая теория: люди, которые у нынешней власти, стареют. И если 10–15 лет назад их могли интересовать балерины, активные виды спорта и какие-то игры, то сейчас, по мере приближения к окончанию жизни, их метафизически тянет к земле. Внутрь той самой земли, в которой они останутся лежать..
При этом они оценивают себя, конечно, как людей выдающихся, которые не могут просто состариться и умереть. Они должны после смерти остаться в чем-то. И вино в этом плане, конечно — такая штука, которая обеспечивает им бессмертие. Мне кажется, если поговорить с какими-нибудь психологами, эта теория окажется вполне себе живущей.
Возникло же это повальное увлечение виноделием в начале нулевых. Первое хозяйство — «Шато Ле Гран Восток», куда в 2003-м году привезли молодого французского винодела Франка Дюсенера из Франции. Показали ему терруар и сказали: «Слушай, а у нас чисто географически — одна параллель с Бордо». Ему там понравилось, он приехал с женой, остался, обрусел — сейчас работает виноделом «Шато де Талю», это винодельня семьи Александра Ткачева [бывшего губернатора Краснодарского края, а затем федерального министра сельского хозяйства]. Но тогда, в начале 2000-х, это были маленькие эксклюзивные истории. Как с винодельней «Гай-Кодзор», деньги на которую давал Роман Абрамович и которая принадлежит его партнерам.
Потом появилась история с «Абрау-Дюрсо», когда Борис Титов — москвич из хорошей семьи, бизнес которого заключался в том, что он продавал какие-то минеральные удобрения в Китай, — собрался купить Новороссийский торговый порт, который занимается перевалкой зерна, цемента и т.п. По легенде, была плохая погода, самолёты не летали. Титов сидел в аэропорту с [совладельцем порта] Александром Пономаренко — тем самым, которому [по документам] принадлежит дворец в Прасковеевке. Было понятно, что в ближайшие два часа погода не изменится — и чтобы скоротать время, Пономаренко позвал Титова съездить в Абрау-Дюрсо, где Титов, как выяснилось, не был. Там было красиво, но запущено. Титову понравилось, он спросил, можно ли это купить — ему ответили: «Можно, почему нет? Все можно купить». Вот так он купил «Абрау-Дюрсо» и занялся этим делом.
Но тогда это все казалось барскими забавами. И про любовь Путина к вину тоже ничего не было известно. Всегда есть соблазн считать, что все изменило присоединение Крыма, который в силу своей специфики подходит для виноделия. В Крыму нет воды, и никакие сельхозкультуры там нормально не растут — только те, которым много воды не нужно. Это виноград и орехи. Вдобавок, с царских времен было известно, что на крымских известняковых почвах никогда не вырастут нормальные помидоры, зато для винограда это самое то. Так что, с одной стороны, — да, присоединение Крыма дало толчок. Но винодельня «Усадьба Дивноморское» появилась до того [в 2009 году — Republic].
Я хорошо помню презентацию вин «Усадьбы Дивноморское». В те годы это выглядело очень странно. До этого самая мощная презентация вин, какую я видел в России, была на выставке «Продэкспо», когда изготовитель вин «Арбатское» устроил шоу с украинскими стриптизершами и обливанием вином.
— Ну как же, «Арбатское»! Кстати, а где этот производитель брал виноматериалы?
— Фиг знает, но разливалось все в Москве на Рябиновой улице. Так вот, это была наиболее грандиозная презентация на моей памяти. А тут, значит, «Балчуг» — крутая гостиница. Очень много вин одного производителя. Собрался весь винный бомонд, причем многим экспертам не хватило места — кто-то стоит в проходах. Показывают кино — с дрона снятые пролеты над виноградниками, с музыкой. И все стоят с открытыми ртами, потому что никогда ничего похожего [на российском рынке] не было вообще.
Вина оказываются — и до сих пор они такие, это самое частый отзыв экспертов про «Дивноморку» — выхолощенные. То есть, невозможно про них сказать ничего плохого, потому что все сделано по уму, грамотно-отлично. Но при этом — как будто очень боялись допустить какие-то ошибки. Очень качественные, очень чистые, классные вина, про которые нечего сказать. Кроме того, что они сделаны без единой ошибки, безупречно. Это как в фигурном катании: фигуристка прокатилась, прыгнула, ни разу не упала — а как-то не зацепило.
— А кто там энологией занимается?
— Первым был Алексей Толстой, который, собственно, сделал себя имя на «Дивноморке», сейчас он делает вина «Галицкий и Галицкий» и для своего собственного проекта «Усадьба Маркотх». Он говорит, что всё заработанное на «Галицких» тратит на «Усадьбу Маркотх», поэтому я как потребитель люблю «Усадьбу Маркотх» больше всех российских вин.
Потом появился Риккардо Котарелла. Это большое имя в Италии, мировая суперзвезда. Мировые звезды виноделия, как правило, берут 15–20 проектов по всему миру — Новая Зеландия, Россия, Ливан какой-нибудь, — и консультируют их. То есть, они не присутствуют там постоянно, но честно подрабатывают: приезжают, делают замечания, вносят коррективы. К тому же, это сам по себе большой промоушен: все знают, что вина с именем Риккардо Котареллы — плюс для международных выставок.
— Ты в своем телеграм-канале «Пьяный мастер» регулярно сообщаешь новости из жизни братьев Ковальчуков. Почему они стали главными придворными виноградарями, как считаешь?
— Ковальчуки, конечно, из всех друзей Путина самые загадочные. Я бы сравнил [старшего из братьев] Юрия Ковальчука с героем фильма «17 мгновений весны» Мартином Борманом — наименее публичным, но, как в конце оказалось, самым влиятельным. Для меня остается загадкой — это было его желание стать князем Голицыным либо его назначили? Я думаю (и по некоторым моим сведениям, это так) — все-таки его желание. Но при этом он не должен появляться в публичном пространстве и вообще об этом говорить нельзя. Когда-нибудь потом, когда он умрет и все умрут, можно будет сказать: «Вот Юрий Ковальчук — он, собственно, и был тем человеком, который возродил все виноделие Россиии». Ему не нравится быть в кадре — думает, что это незачем. Задания, которые он дает компании «Михайлов и партнеры», сводит «Михайлова и партнеров» с ума, потому что они должны пропиарить человека…
— Не называя его имени?
— Да-да. И это, с точки зрения пиарщика, какая-то чертова катастрофа.
— Поэтому Ковальчук и скупил все крымское виноделие?
— Не всё, но самые статусные предприятия — да. У него «Новый Свет», «Массандра», и судя по всему, «Инкерман», который является в большей степени сейчас производственной площадкой — то есть, просто виноградники, которые обеспечивают сырьем другие заводы. Не знаю, будет ли он сохранять бренд «Инкерман», потому что единственное, что хорошего в «Инкермане» — это верхняя линейка и крепленые вина.
— А что у «Массандры» есть хорошего, кроме крепленых вин?
— С «Массандрой», конечно, надо разбираться, потому что там дикий бардак. Но за ней большая история, в отличие от «Инкермана».
Управляющей компании Ковальчука принадлежит и «Дивноморское». С тех пор, как появилось «Дивноморское», в профессиональной тусовке шутят: «Кому сегодня принадлежит "Дивноморское"?» Я помню, как на одной из традиционных октябрьских дегустаций на «Абрау-Дюрсо» Павел Борисович Титов, отведя меня в сторону, сказал: «Это моя винодельня, моя личная. Не папина, не "Абрау-Дюрсо", а моя». Я спрашиваю: «А чего ж тогда ФСО никого не пускает на твою личную винодельню?» Он говорит: «Ну, не пускает». Такие вот смешные разговоры были всегда.
— Возможно, одна из причин, по которой Ковальчук возжелал «Массандру», — то, что в её собственности находится самая большая в мире коллекция вин, занесённая в Книгу рекордов Гиннеса?
— Думаю, что нет. Я думаю, что это было среди мотивов, но точно не на первом месте и не на втором.
— А что могло быть на первом и на втором?
— Понимаешь, когда ты покупаешь «Массандру», «Новый Свет», «Инкерман», и еще «Усадьба Дивноморское» тоже твоя — ты становишься главным человеком в индустрии. А этой индустрии особо уделено высочайшее внимание. И ты становишься гораздо более важным и значимым человеком, чем тот, кто просто владеет банком «Россия».
— Это очень статусно, получается?
— Да, это статус. Если посмотреть известный фильм «Хватит травить народ» Дмитрия Киселева, который был назначен главой Российского союза виноградарей и виноделов, то там основной посыл — то, что Россия это великая винодельческая держава по потенциалу и двигалась в этом направлении, пока не случились революционные потрясения. Потом было еще очень много лет не до того, но сейчас, когда мы уже встали с колен, настало время заявить о себе как о великой винодельческой державе в глобальном масштабе.
И когда вот ты заявляешь себя прямо как великую винодельческую державу в глобальном масштабе — очень круто быть ключевым человеком в том деле. До того, пока мы не собирались со всем миром сражаться, это был Борис Титов. А теперь — Ковальчук. Бориса Титова свергли и все [экспертные] тусовки сейчас проходят не в «Абрау-Дюрсо», а в Массандре, то есть, перенесены из Краснодарского края в Крым.
— А как насчет качества? Только в прошлом году российское вино впервые получило высокие оценки в рейтинге Wine Advocate Роберта Паркера — это были вина от Александра Сикорского. А что с ковальчуковскими винами, с тем же «Дивноморским»? Его международные эксперты вообще как-то отмечают?
— Ну, нет. Но понимаешь, с вином все не так быстро происходит. Вот есть, например, чилийское вино — сейчас о нем говорят в основном как о скучном масс-маркете. Но, во-первых, чилийское вино бывает всякое, есть и отличное. А во-вторых, до того, как Пиночет ушел, никто вообще ни о каком чилийском вине не знал, потому что Пиночет не поддерживал виноделие. А сейчас чилийские вина продаются по всему миру. Я к тому, что локальный продукт вполне может стать глобальным при нормальном подходе. Австрийское вино 10 лет назад вообще никому не было нужно. Был огромный скандал, когда где-то в Германии люди отравились каким-то австрийским вином, в котором нашли метанол — какой-то имиджевый кошмар. После чего государство взялось за поддержку виноделия, инвестировало в это — и сейчас австрийские грюнеры, цвайгельты и рислинги повсюду, и Австрия — одна из крутейших европейских винных держав. И у нас тоже есть шансы.
— Шансы на то, что индустрия выйдет за границы придворного виноделия?
— Да. Пока что им нравится играть в придворное виноделие, в результате чего Сечин дарит Улюкаеву корзинку.
— Корзинку с колбасой и «Дивноморским».
— Да, а Костин кому-то рассылает премиальное «Alma Valley». Все друг другу что-то дарят. Настоящие виноделы — такие, как Сикорский, — никакого отношения к этому придворному виноделию не имеют. Но они думают, что всё происходящее и для них хорошо, потому что станет каким-то плацдармом для штурма серьезных высот.
— В конце 1990-х, да и в 2000-х у олигархов было признаком хорошего тона покупать винодельни в Европе. Сейчас и у них фокус сместился на российские хозяйства?
— И там, и там — кому что ближе.
— То есть, придворные винодельни есть и в Тоскане?
— У Никиты Михалкова же есть, например. Я сам раза три был на тосканской винодельня «Aiola», которая упомянута в фильме «Он вам не Димон». Отличные там ребята. Говорят, что Медведева не видели ни разу, но какие-то их знакомые видели Светлану Медведеву [жену бывшего президента Дмитрия Медведева] — не на самой винодельне, а рядом. Само по себе это тоже ничего не значит, но при этом туда приезжает Илья Елисеев [однокурсник Медведева, который, согласно расследованию «Он вам не Димон», вовлечен в связанные с ним коммерческие проекты — Republic]. Черт знает, как там у них все устроено.
Мне кажется, вся эта серия крупных объектов, про которые Навальный делает расследование — гостиницы, винодельни и так далее — это какой-то таймшер. Некий клуб, участники которого могут пожить в гостинице, отдохнуть на винодельне и т.п.. То есть, инфраструктура принадлежит какому-нибудь фонду, а они там все развлекаются.
— Смотри, вот сейчас Ковальчук скупает легендарные предприятия советского виноделия. Но эта история, разворачивающаяся на наших глазах — она же не про ностальгию по СССР. Лучшие вина советского периода производились на дореволюционных заводах. Так что эта история о том, что приближенные Путина чувствуют себя преемниками русской аристократии. А что же происходило с придворным виноделием во времена той самой русской аристократии? Насколько это похоже на то, что есть сейчас?
— Не очень похоже, на самом деле. Князь Голицын, который считается основателем нового русского виноделия, занимался им в конце XIX века и в начале XX-го. Частных винных брендов в стране тогда просто не было. Помещики в своих хозяйствах больше занимались крепкими напитками — гнали самогон, настаивали его на ягодках и продавали, пока Витте не объявил алкогольную реформу в 1903 году. Поэтому нынешние как-бы-аристократы не наследуют реальной российской аристократии дореволюционной эпохи. Они ориентируются на европейскую традицию.
— Если отвлечься от придворного виноделия — насколько хорошо обстоят дела с технологиями в отечественной винной индустрии? В СССР были свои технологии, не обязательно совпадающие с теми, по которым работают зарубежные виноделы. Много ли в России сейчас французских, итальянских, испанских энологов?
— Технология — это всегда вопрос денег. А деньги есть. Соответственно, у нас в этом смысле все в порядке не только в хозяйствах, связанных с Путиным. Я вижу, что компании, которые в принципе считают деньги, нанимают к себе в консультанты крутых французских или итальянских энологов. Значит, это стоит каких-то понятных денег, не безумных — в районе 10–15 тысяч долларов в месяц.
— Так вот к вопросу о качестве. Все, кто застал СССР, помнят «шмурдяк», «вино плодово-выгодное», портвейн «три топора» и прочие удивительные напитки, с которыми ассоциировалось массовое производство вина. А с чем ассоциируется российское виноделие сегодня, через 30 лет после распада СССР?
— Сейчас мы ищем свое собственное лицо. У каждой национальной индустрии из Нового света есть свой узнаваемый сорт. Аргентинские мальбеки, новозеландские совиньон-бланы, чилийские карменеры — старосветские сорта в новой стилистике. Вот и в России идут поиски своей винной идентичности.
С одной стороны, много говорится о том, что наш красностоп от топовых хозяйств продается за большие деньги. С другой стороны, по поводу красностопа есть скепсис, потому что это очень специфический сорт, у которого немножко не хватает баланса, кислотности. Как будто пьешь забродившее бабушкино варенье. Сейчас появилась идея, что русский национальный сорт — это каберне фран, дедушка многих французских сортов: и каберне совиньона, и мерло, и еще многих других. Во Франции каберне фран используется, как дополнительный сорт, типа 6% для общего купажа. А в России, оказывается, из него получаются какие-то очень странные экзистенциальные крутейшие вина, в которых безумный запах скотного двора дополняется какими-то абсолютно тонкими ароматами.
Думаю, в течение лет пяти мы со своей винной идентичностью окончательно определимся.
Редакция «Денег» будет признательна за информацию о жизни Алексея Александровича Базилевича и истории создания его коллекции винных этикеток.