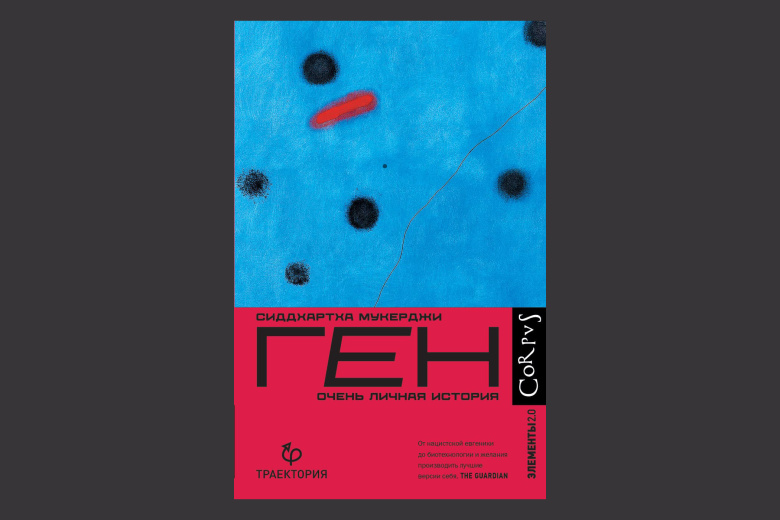
Издательство Corpus выпустило книгу доцента медицины Колумбийского университета, иммунолога, гематолога, врача-онколога, исследователя и лауреата Пулитцеровской премии (2011) Сиддхартхи Мукерджи «Ген. Очень личная история».
От автора: «Эта книга — рассказ о рождении, развитии и будущем одной из самых значимых и опасных концепций в истории науки — концепции гена, элементарной единицы наследственности и базовой единицы биологической информации вообще. Я использую этот эпитет — "опасный" — абсолютно сознательно. Три взрывных научных идеи — атом, байт, ген — с грохотом пронеслись через все ХХ столетие, разделив его на три неравных отрезка.
Предпосылки каждой из этих идей сложились еще в XIX веке, но ослепительный триумф пришелся на XX. Изначально все они представляли собой довольно абстрактные научные концепции, но затем разрослись, окрепли и, проникнув в многочисленные сферы нашей жизни, сейчас меняют культуру, общество, политику и язык. Но самое важное сходство этих трех понятий, безусловно, концептуальное: все это минимальные единицы — строительные блоки, базовые организационные детали — какого‑то более крупного целого. Атом — единица материи; байт (или бит) — цифровой информации; ген — наследственности и информации биологической.
Почему же общее свойство этих единиц — дальнейшая неделимость — наградило их концепции таким огромным потенциалом и могуществом? Простой ответ состоит в том, что материя, информация и биологические объекты по своей природе иерархичны, и понимание строения и функций самой маленькой части необходимо для понимания целого. Понять смысл предложения можно, лишь поняв смысл всех его слов, хотя целое предложение несет больше смысла, чем отдельные слова. То же и с генами. Организм — нечто гораздо большее, чем его гены, но чтобы по‑настоящему понять, как он работает, нужно разобраться в работе его генов».
«Мое истинное резюме записано в моих клетках», — говорит Джером, молодой протагонист научно-фантастической картины «Гаттака». Но какую часть генетического резюме индивида мы способны прочесть и понять? Можем ли мы расшифровать судьбу, закодированную в каждом геноме, на пригодном для практического применения уровне? И в каких обстоятельствах мы можем — или должны — вмешиваться?
Давайте обратимся к первому вопросу: какую часть человеческого генома мы можем «прочесть» в прикладном или предсказательном смысле? До недавнего времени способность предсказывать судьбу по человеческому геному была ограничена двумя принципиальными препятствиями.