
Большую часть жизни я прожил в Петербурге — городе, где весна наступает не в положенное по календарю время, а в мае — и то при определенном везении. В городе, где погода и длинные выходные превратили самые идеологически заряженные праздники в году в те самые «майские», после которых хоть потоп, главное — ПОСЛЕ.
В благословенные российские 2000-е и начало 2010-х я работал на местном телевидении, которое, конечно, ни в какие праздники не уходило. С грустными пролетарскими рожами мы, молодые корреспонденты, снимали сюжеты о том, что происходит в брошенном ради шашлыков и огородов городе, для околонулевой аудитории — тех странных редких людей, которые зачем-то продолжали смотреть телевизор и в эти дни.
То есть фактически мы занимались тем, против чего бунтует Первомай — неэффективным трудом по заданию начальства, просто потому что так принято. И по себе судили остальных. Первомайские демонстрации на Невском — вообще-то, смелые, остроумные, яркие — казались мне чем-то совершенно необязательным, лишенным смысла, не политическим и не праздничным, не друзьями, не врагами, а так. Конфликты Виталия Милонова с ЛГБТ-колонной, либералов с националистами, пожилых коммунистов с молодыми коммунистами ощущались как ни на что не влияющие междусобойчики. Вот не было бы этого всего — и как будто бы не страшно.
Привет тебе из 2025-го, глупый-глупый я. Тот я, который, конечно же, был не прав. Без геев, лесбиянок, консерваторов, либералов, коммунистов и прочих воздушных шариков в центре города все-таки страшно. Реальность предъявила убедительные доказательства. Слоган «Мир! Труд! Май!» без слова «мир» — очень страшно. Смотреть на фотографии того времени, видеть улыбающихся людей и понимать, что треть из них сидит, треть — в эмиграции, а еще треть — неизвестно где, тоже страшно. И вот об этом мы и решили сделать новый номер Republic-Weekly.
Этот выпуск не просто о Первомае, он о том, как может быть, о том, как должно быть, о том, как когда-нибудь будет.
Взгляд на те же события, что коротко описал я, но с другой стороны — это колонка поэта, активиста и постоянного участника Первомая Кирилла Медведева. По нашей просьбе он вспоминает те самые демонстрации на Невском и, будучи левым-левым, сравнивает их с теорией — неким идеальным образом Первомая, который впитал с молоком Маркса. Один из героев текста Медведева — друг, который шел с тобой плечом к плечу, а теперь на «СВО» — точнейший образ наших перемен последних пяти лет.

Кстати, о пятилетках. С весенней радостью публикуем здесь фрагмент книги экономиста и историка Алексея Сафонова «Большая советская экономика. 1917–1991». Точнее, два фрагмента, очень точно описывающих отношение к человеческому труду (да и человеческому вообще) в стране, провозгласившей труд одной из высших ценностей. Это главы про собственно идею пятилеток и спровоцированный этим делом энтузиазм, и тут же — про ГУЛАГ как самую дикую и жестокую форму массового труда «во благо государства».
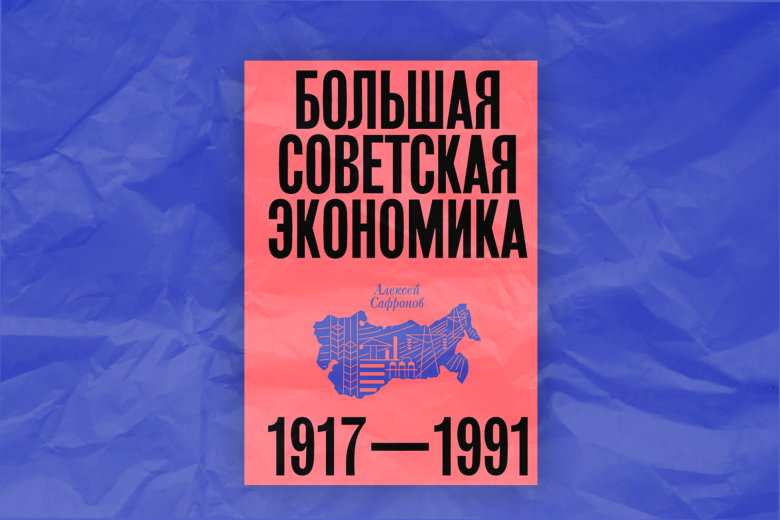
Вообще, скажите (напишите в комментариях), с каким временем и какой страной у вас ассоциируются слова «труд» и «трудящиеся». Есть ощущение, что это термины с устоявшейся ретроконнотацией. Вот нынешние повзрослевшие хипстеры — они трудящиеся? А айтишники? А миллионы силовиков — наш новый средний класс? Они-то кто? Пролетарии, что ли? С этого вопроса начинается наш разговор с историком, политическим теоретиком, приглашенным исследователем Калифорнийского университета в Беркли Ильей Будрайтскисом.
«В вашей идеальной картине мира труд — это что?» — спрашиваю я. «В моей идеальной картине мира не должно быть никакого труда», — отвечает Будрайтскис. Хорошая логика. Рабочая (во всех смыслах слова).
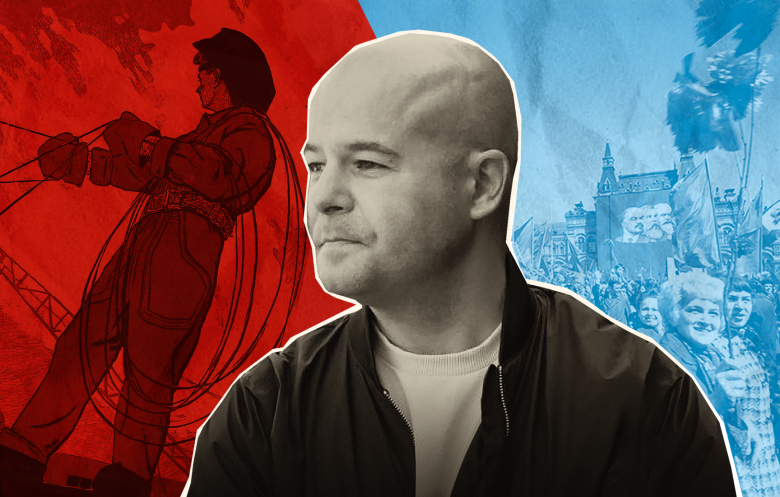
Пока труд и трудящиеся все еще существуют, их неидеальную картину мира призваны в меру силу улучшать профсоюзы. Но тут ситуация как и с самим праздником. Кому-то еще кажется, что профсоюзное движение в России эффективно? Могут ли вообще быть эффективными профсоюзы в автократиях, когда любой несимпатичный власти протест будет моментально и жестко подавлен, а зачинщики — и это если еще повезет — будут уволены без выходного пособия?
«Бывает по-разному», — отвечает политолог Тимофей Барсуков (псевдоним) и рассказывает историю профсоюзного движения, деятельности профсоюзов в несвободных странах и даже приводит примеры того, как благодаря профсоюзам эти страны становились более свободными. Вот, пожалуйста, и островок надежды в нашем не самом веселом выпуске.

Заканчиваем его мы, впрочем, вполне даже с улыбкой. Правильный финал «трудового» журнала — это ода лени! Ее нам в ответ на просьбу написать о труде (sic!) прислал экономист Данила Расков. По Раскову, именно лень и ее верные товарищи бездействие с прокрастинацией — это, во-первых, обязательные участники путешествия в светлое будущее, а во-вторых, важнейшие условия для эффективной экономики, государственного устройства и в конечном счете народного благосостояния. Не ленитесь, прочитайте этот текст — он смешной, умный, парадоксальный и очень логичный.

Да и в принципе прочитайте весь выпуск. Напишите в комментариях, что думаете. Поставьте лайк или дизлайк. Поспорьте с авторами, поблагодарите их, а если хотите — обложите проклятиями. Отреагируйте как угодно, ведь любая ваша реакция делает наш труд небессмысленным.
Спасибо! С праздником — и праздниками!