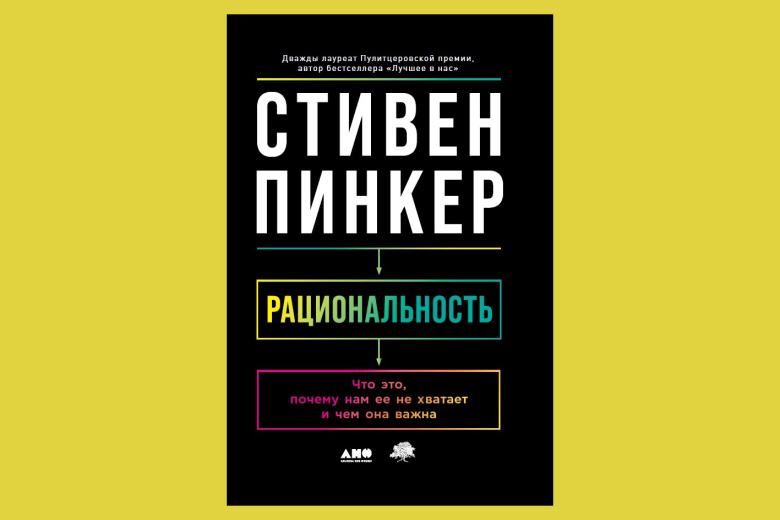
В конце ноября «Альпина нон-фикшн» выпустит новую — осмелимся предположить, долгожданную — книгу Стивена Пинкера «Рациональность: Что это, почему нам ее не хватает и чем она важна».
Прямо сейчас человечество достигает новых высот научного понимания — и в то же время, кажется, постепенно сходит с ума. Почему вид, меньше чем за год разработавший вакцины против ковида, погряз в фальшивых новостях, медицинском шарлатанстве и теориях заговора? Пинкер отказывается от циничного клише, гласящего, что человек попросту нерационален — что это вечный троглодит, готовый среагировать на льва в траве ворохом предрассудков, слепых пятен, ложных умозаключений и иллюзий. В конце концов, это мы смогли открыть законы природы, преобразить планету, продлить и обогатить свою собственную жизнь и (не в последнюю очередь) вывести правила рациональности.
Однако люди, увы, не умеют в полной мере пользоваться инструментами познания, которые сами и выработали за последние тысячелетия: логикой, критическим мышлением, теорией вероятности, представлениями о корреляции и причинности, а также оптимальными способами уточнять мнения и проводить в жизнь принятые решения — как в одиночку, так и коллективно. Этим инструментам не обучают в рамках типичных образовательных программ, и о них никогда до сих пор не рассказывали доходчиво в одной книге.
Люди всегда любили делиться на соперничающие группировки, это не новость, однако не совсем понятно, почему в наши дни именно деление на левых и правых, а не традиционные линии раскола вроде религии, расы или класса разводят рациональность сторон в противоположных направлениях. Ось правые — левые параллельна многим нравственным и идеологическим векторам: иерархия — эгалитаризм, либертарианство — коммунитаризм, «за веру, за царя» — за Просвещение, родоплеменное — многонациональное, трагическое видение — утопическое видение, культура чести — культура достоинства, мораль обязывающая — мораль индивидуализированная. Однако то, как правые и левые в последнее время непредсказуемо меняются местами в вопросах, например, иммиграции, внешней торговли и отношений с Россией, заставляет предположить, что политические стороны в наши дни — это не столько целостные идеологии, сколько социокультурные кланы.
В ходе проведенного недавно исследования команда социологов пришла к выводу, что правые и левые напоминают не кланы в буквальном смысле, удерживаемые вместе кровным родством, но религиозные секты, сплоченные верой в собственное моральное превосходство и презрением к конкурирующим сектам. В расцвете политического сектантства в США винят (как всегда) социальные сети, но корни его лежат глубже. Это расслоение и поляризация вещательных СМИ, в том числе тенденция к вытеснению национальных сетей партийными радиостанциями и кабельными новостными каналами; целенаправленное выкраивание (gerrymandering) избирательных округов и другие способы исказить географию демократического представительства, мотивирующие политиков заботиться не обо всех избирателях, а только о «своих»; склонность политиков и аналитических центров полагаться на идеологически близких спонсоров; самоизоляция образованных либеральных профессионалов в городских анклавах; падение популярности общественных организаций, сближающих разные слои населения, — церквей, клубов по интересам и волонтерских объединений.
Может ли предвзятость в пользу своих быть рациональной? Правило Байеса гласит, что мы должны оценивать новые данные с учетом суммы уже имеющихся, а не принимать каждое новое исследование за чистую монету. Если либерализм доказал свою правоту, то исследование, результаты которого говорят в пользу консервативной повестки, не должно кардинально переворачивать наши представления. Неудивительно, что либеральные академические круги именно так отреагировали на метаанализ Дитто, предполагающий, что политически мотивированные ошибки совершают и республиканцы, и демократы. Ниоткуда не следует, что излюбленные точки зрения левых и правых в любой момент будут совпадать с истиной в соотношении 50/50. Даже если обе стороны интерпретируют реальность через призму собственных убеждений, рационально будут действовать те, чьи убеждения обоснованны. Может быть, продолжают либералы, несомненный левый уклон научного мира — не иррациональная ошибка, но точная калибровка байесовских априорных вероятностей с учетом того факта, что левые всегда правы.
На что консерваторы (цитируя Гамлета) отвечают: «Не умащайте душу льстивой мазью». Может, левые идеи и подтверждаются чаще правых (особенно если, по неизвестной причине, представления левых чаще совпадают с научными), но в отсутствие непредвзятых критериев ни одна из сторон не вправе оставить за собой последнее слово. История, несомненно, изобилует примерами, когда оплошности — и какие! — совершали обе стороны.