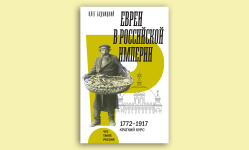Ставшая последнее время общим местом характеристика нынешнего российского политического режима как авторитарного порой вызывает критику не только у кремлевских пропагандистов, но также и у вполне себе демократически настроенных наблюдателей, в особенности тех, кто хорошо помнит времена господства КПСС. Их доводы можно суммировать примерно так: по сравнению с СССР, когда ни о каких политических и гражданских свободах никто и заикнуться не мог, сейчас в России принципиально иная ситуация. Спору нет: уровень политической несвободы в сегодняшней России несоизмеримо ниже, чем в СССР, не говоря уже о гражданских правах. Но далеко не всем авторитарным режимам присущ репрессивный характер. Многие из них используют другие инструменты обеспечения лояльности подданных – прежде всего, патронаж и распределение ренты, прибегая к подавлению лишь в исключительных случаях, когда возникают прямые угрозы их выживанию. Напротив, низкая репрессивность режима и отсутствие ограничений части (но не всех) политических свобод, порой, скорее, служит свидетельством консолидации авторитарных режимов. Россия в этом плане – отнюдь не исключение: в условиях, когда в стране ограничена свобода ассоциаций, а свобода избирать и быть избранными предстает откровенной фикцией, то и элементы свободы слова даже в отсутствие явных ограничений превращаются в полусвободу. Полусвобода слова означает: – что в стране существуют определенные властями «зоны умолчания», обсуждение которых в СМИ не допускается либо пресекается (будь то обвинения в коррупции московского мэра или обстоятельства личной жизни Владимира Путина и Алины Кабаевой); – что наиболее значимые каналы СМИ, прежде всего, телевидение, находятся под прямым или косвенным контролем властей, использующих их как механизмы пропаганды и не допускающих к этим каналам нежелательных лиц и организации, равно как и обсуждения нежелательных тем; – что сами СМИ и отдельные журналисты не только не застрахованы от произвольного вмешательства со стороны государства, но и время от времени выступают объектами селективного наказания (дабы другим неповадно было); – и – самое главное – что обсуждение большинства значимых общественных проблем в СМИ не транслируется в политическую повестку дня (либо же транслируется селективно в зависимости от того, выгодна ли такая трансляция властям) и не оказывает значимого влияния на большинство политических решений. Такая полусвобода слова вполне вписывается в рамки авторитарных режимов (многим из которых по определению присущ «ограниченный плюрализм»), а подчас даже служит средством их поддержания. В самом деле, с точки зрения правящих групп этих режимов (включая и российский), полусвободные СМИ служат, во-первых, важным каналом обратной связи, позволяющим получать альтернативную информацию о происходящем в обществе и иногда корректировать свой курс (при условии, что дозированная критика в СМИ не подрывает основы режима). Подобные стимулы пытался создать еще советский режим: Константин Симонов в мемуарах «Глазами человека моего поколения» цитирует пожелание Сталина о том, что «Литературная газета» должна выражать разные точки зрения, отличные от официальных (эту функцию «Литературка» в советский период успешно выполняла, не выходя при этом за рамки лояльности режиму). Во-вторых, мало на что влияющие общественные дискуссии в полусвободных СМИ создают у аудитории иллюзию якобы настоящей свободы и предотвращают радикализацию общественности – поэтому вместо того, чтобы идти на антиправительственные «марши», разрозненные «несогласные» читают «Новую газету» и/или обмениваются комментами в ЖЖ. Иначе говоря, полусвободные СМИ объективно препятствуют антисистемной мобилизации реальной или потенциальной оппозиции. В-третьих, наконец, сами полусвободные политизированные СМИ в такой ситуации оказываются запертыми в рамках тех «гетто», в которых они пребывают в результате шагов не только правящего режима, но и своих собственных. Угроза селективных репрессий со стороны правящей группы подталкивает полусвободные СМИ не только к самоцензуре, но и к тому, чтобы собственное выживание становилось самоцелью, в то время как политические стимулы к борьбе за аудиторию для них не столь значительны. Сама же аудитория полусвободных СМИ рискует оказаться ограниченной кругом преданных «фанов», готовых читать и/или слушать своих любимых журналистов или блоггеров при любых обстоятельствах, в то время как остальная публика останется безразличной или же разочаровывается в неэффективности критики статус-кво со стороны полусвободных СМИ. Спрос на свободу слова в условиях такого рода авторитарных режимов возникает лишь во время масштабных катаклизмов, когда недоверие официально санкционированным источникам информации провоцирует поиск независимых оценок и вызывает потребность не только в проникновении в прежде закрытые «зоны умолчания», но и в трансляции обсуждения острых проблем в политическую повестку дня. В этой связи стоит вспомнить тот факт, что чернобыльская катастрофа в свое время стала одним из мощнейших катализаторов политики гласности, положившей конец несвободе слова. Однако в «нормальной» ситуации авторитарного режима полусвободные СМИ, скорее, служат средством стабилизации статус-кво, чем агентом политических изменений. Полусвобода слова отличается от несвободы примерно так же, как отличаются высказывания «2х2=10» и «2х2=100» – оба ложные, хотя первое отстоит от истинного и меньше, чем второе. И хотя несвобода, безусловно, хуже, чем полусвобода, но и полусвобода слова в России в среднесрочной перспективе может оказаться опасной институциональной ловушкой, выход из которой будет сопряжен со значительными издержками и для СМИ, и для общества в целом.