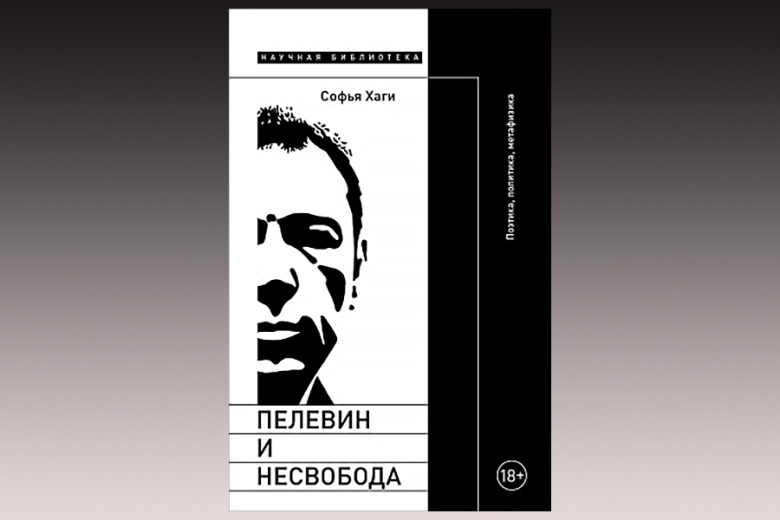
Издательство «Новое литературное обозрение» выпускает книгу профессора русской литературы на кафедре славянских языков и литератур в Мичиганском университете Софьи Хаги «Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика».
С любезного разрешения издательства публикуем отрывок из главы «Могут ли цифровые люди мыслить?».
На самом деле вопрос не в том, думают ли машины, а в том, думают ли люди.
Б. Ф. Скиннер. Случайное подкрепление
Расчеловечивание (дегуманизация) — понятие, с недавних пор часто встречающееся в российском научном, журналистском и литературном дискурсе. В этом плане характерно высказывание Ольги Седаковой:
…Европейская актуальность… отошла… от классического гуманистического интереса. То, что у нас происходит теперь, называют «дегуманитаризацией»… <…> «Дегуманитаризация» означает в каком-то смысле расчеловечивание. Культура, как говорил Ю. М. Лотман, не передается биологически.
В противовес Западу, где за теориями Ницше и Фуко последовали проблематизация классического гуманизма и ярко выраженный, пусть и не единодушный, интерес к постгуманизму, в России к постгуманизму относятся преимущественно негативно, как к изменению естественных свойств человеческой природы. Современные российские авторы, пишущие в разных художественных и нехудожественных жанрах, выражают серьезную обеспокоенность процессами дегуманизации в мировом сообществе.
Если говорить о проблеме расчеловечивания в постсоветской художественной литературе, первыми на ум приходят именно произведения Пелевина. В присущей ему манере — игровой, но вместе с тем на удивление проницательной — писатель, создавая биотические образы, размышляет о несвободе в постсоветской России и в мире в целом.